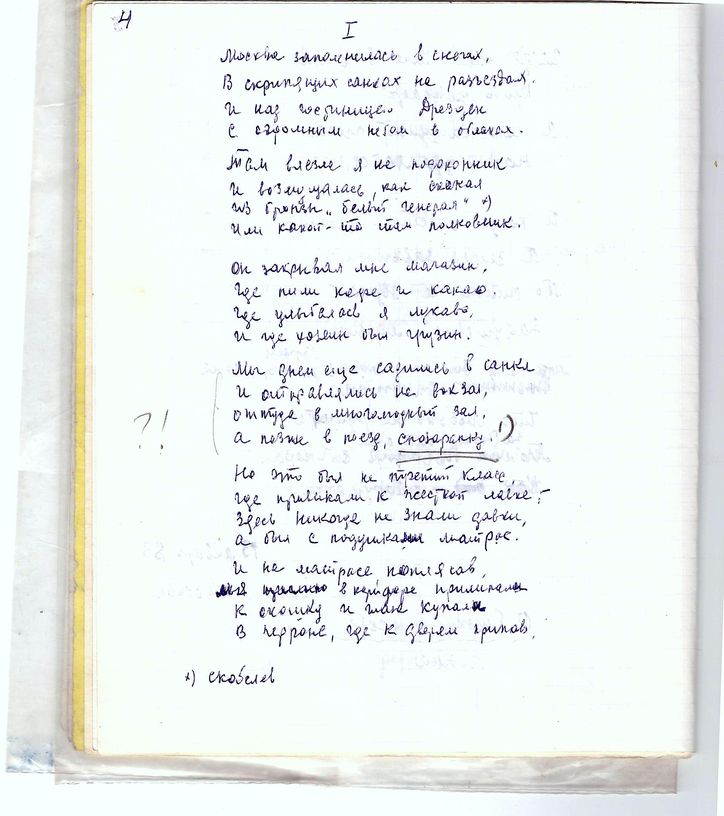О близких и о себе. Поэма
I
Москва запомнилась в снегах,
В скрипящих санках на разъездах.
И над гостиницею Дрезден
С огромным небом в облаках.
Там влезла я на подоконник
И возмущалась, как скакал
Из бронзы «белый генерал»*
Или какой-то там полковник.
Он закрывал мне магазин,
Где пили кофе и какао,
Где улыбалась я лукаво,
И где хозяин был грузин.
Мы днем еще садились в санки
И отправлялись на вокзал,
Оттуда в многолюдный зал,
А позже в поезд, спозаранку.
Но это был не третий класс,
Где привыкали к жесткой ласке -
Здесь никогда не знали давки,
А был с подушками матрас.
И на матрасе поплясав,
Мы в коридоре прилипали
К окошку и глаза купали
В перроне, где к дверям припав,
Звонила в колокол ручища,
И тут же двигался состав,
Колесами заскрежетав
И переваривая пищу.
У всех, у всех еда была
И это нас не волновало -
Там на пути нас ожидала
Коломенская пастила.
И пряники — вкуснее нет,
Но главное, чтоб люди знали,
Что на голутвинском вокзале
Нас, пассажиров, ждет обед.
Какой обед? Представьте люди,
Накрытый стол на сто персон
И вам спешит подать гарсон
Жаркое вкусное на блюде,
А не котлету в сухарях.
И вместо третьего — компота,
Подаст вам сказочное что-то.
Но вы едите н? ????,
И быстро мчитесь по перрону.
Прощай Голутвино, пора,
Пора, до своего двора.
И вот, мы скачем из вагона
И через зал, во двор, скорей,
Где ждет нас, словно бог Ярило
С любимой тройкою Гаврила
Наш друг, любимец всех зверей.
Он весь пуржистый, весь ненастный...
Но мы уже сидим в санях,
И мы летим, мы на конях,
Туда, туда, где жизнь и счастье!
*)Скобелев
II
Был брат и я белоголовы,
Ходили летом босиком
И не боялись сквозняков,
Хоть часто были нездоровы.
Да, ежегодно мы болели:
Нас одевали в свитера
И мы, как золушка, с утра
Сквозь окна на зиму глядели.
Нам мерили температуру.
Но мы старались обмануть
И непонятливую ртуть
Для всех невидимо — стряхнуть
И показать свою натуру.
Как было летом идеально -
С утра бросала я постель,
Хотя хотелось на качель
И мчалась быстренько в купальню.
И мылась, и купалась вдоволь
Под птичий и собачий гам,
Под непрерывный тарарам
Скота бегущего по мосту...
Летом я шла спокойно в дом,
Где самовар стоял красиво
И нам доказывал спесиво,
Что вкуснота совсем не в нем,
А в молоке, что из подвала,
И в хлебе, с маслом на куске,
Который в тетиной руке
Всегда казался идеалом.
Нам тетя маму заменяла
Что далеко жила от нас,
С тех пор, как с папой разошлась
И мы к Богдановым попали.
Когда войну провозгласили
Был папа призван, но потом
По сердцу был освобожден,
Избавившись от всех насилий.
Вот тут-то папина сестра
Взяла от папы навсегда нас.
И к нам ужасно привязалась.
Она всегда была добра
А дядя, муж ее бесценный,
Был тоже бесконечно мил,
В халате, с бархатом [????] ходил,
И песнь мурлыкал неизменно.
Он пел нам про «Henri le quatre,
qui eut le triple et bon talant -
pour etre toujour un vert galant
Ce diable Henri, Henri le quatre.»
III
Еще была у дяди Саши
Чудная, дикая сестра.
Она была худа, остра
И белая, как простокваша.
Нас совершенно не касаясь,
Она жила не как семья.
Однажды увидала я,
Как та, раздевшись и босая,
В присутствии людей, домашних,
Ужасно громко хохоча,
Ключами яростно бренча,
В роскошной розовой рубашке,
Усевшись к Ваське на колени,
В беседке, около ворот,
Смотря в его открытый рот,
Звала к себе на день рожденья.
Вот эту сцену наблюдали:
Гаврила, повар Ермолай,
Конторщик старый Николай
И наша нянюшка Наталья.
Но тут возникла тетя Маня
И все вскочили и ушли,
А тетю Надю увели,
Оставив Ваську без вниманья.
А тот был вроде истукана:
Смешок в глазах, раскрытый рот...
И я шепнула: «Обормот,
Сейчас похож ты на барана».
Тут тетя Маня вышла снова,
И объяснила, что почем,
Что Вася вовсе не при чем,
А тетя Надя — нездорова...
Еще случился странный случай:
Сидела на крылечке я,
А рядом Наденька моя,
Вдруг потемневшая, как туча.
Обняв меня, как друг, за плечи
Мне пальцы сжав рукою клейкой,
Клялась, что Манька, та злодейка
Что мучит Надю и калечит.
- «Какая Манька? Наша тетя?...»,
А та всё тоже - «Интриганка!
При ней я словно самозванка,
Не знаю, как вы с ней живете!
Я здесь одна, лишь брата ради.
Потом всю правду вы поймете....»
Тут вновь явилась наша тетя,
И убежала тетя Надя.
IV
Бывало горничная наша,
Когда начнет рычать, как лев,
Напоминала королев.
Уж такова была Дуняша.
Но дядя Саша был упрям
И говорил: - «Такая рожа,
На всех зверей она похожа,
А главное — на обезьян.
Увы, такую королеву
Давно бы шельмовал народ,
У нас же все наоборот.
Спасибо, хоть она не дева».
А сын ее, великий Степа
За долгий школьный год ученья,
Решил, что кончено ученье,
Теперь он покорит Европу.
Его дражайшая мамаша
Жила под нами, в тихом месте,
Теперь же, с тетей Надей вместе,
Оно соседкой стала нашей.
Нас разделял лишь коридорчик,
Внизу был дядин кабинет,
И очень милый туалет,
Где возле зеркала узорчик.
И вот, в какое-то однажды,
Мы ночью услыхали крик.
Конечно, мы вскочили вмиг,
Влетели к Наденьке и каждый
Тут завопил, как пес побитый: -
Была пред нами тетя Надя,
В ночном торжественном наряде
Перед окошком в ночь открытым,
А там, Дуняшенька орала,
Как пума, изогнувшись вся,
На собственной косе вися,
Что тетя Наденька держала.
И вдруг на ум пришло ей пенье:
Мы обмерли, но кто-то там,
Внизу, вдруг лестницу достал
И вверх поднялся по ступеням.
И мы увидели, как Вася
С косы Дуняши руки снял,
Потом ее к груди прижал,
А Надя смехом залилася.
И все мы тут же разоглись,
И спать легли, и не слыхали,
Как тетю Надю одевали
И как с ней дальше обошлись.
Нам только утром объяснили
Что тетю Наденьку пришлось
Уговорить пожить нам врозь,
В коляску с Васей посадили,
Взмахнул Гаврила вожжи с болью
И наконец, ура, ура!
Помчалась тройка со двора
С Васяткой, Надей и любовью.
V
Но мы подробностей не знали,
Хотя слыхали про любовь,
Лишь я просила вновь и вновь
Сказать мне, нянюшку Наталью.
Она ж Богдановых любила,
У них служила с крепостных,
Господ не ведала иных,
Сама за Наденькой ходила,
И знала кучу пустяков,
Что берегла, как для царевны,
Что были Наденьке потребны,
От пуговиц до женихов.
«Ну что ж, к молчанью будь готова,
Я расскажу про жениха,
Но это, друг, не ха-ха-ха,
Смотри же, никому ни слова.
Тогда наш Саша был гусаром,
И пил немножко, и играл,
За дамами приударял
И был любимым не задаром.
А Наденька была малютка,
Я в Петербурге с ней жила,
Она, как козочка росла
И всех любила не на шутку.
Потом нас с барыней послали
В деревне новенькой пожить,
И там пришлось лет пять служить,
Пока в Москву мы не попали.
А бедной Наденьке достался
Все тот же серый Петербург,
Он неудобен был и хмур,
Его и Саша наш боялся.
А Надю отдали учиться,
Она попала в институт,
Где только девочки живут,
Но Наде удалось ужиться.
И вот она в семнадцать лет
В Москву приехала весною,
И там сдружилася со мною
И рассказала мне секрет.
О том, что в этом институте
Она на выпускном балу
Услышав о себе хвалу
От молодого шелапута,
Узнать хотела, кто же автор
Сей непонятной похвалы?
И тут же был представлен ей
Один москвич и навигатор.
Он мичман был, служил во флоте.
И так ей голову забил,
Как будто век ее любил
И знал про все, в чем ей заботы.
С тех пор она о нем гадала,
Писала письма каждый день,
И это было ей не лень,
И о свидании мечтала.»
VI
- «Так это он, ее жених?»
Спросила я тотчас же няню.
И услыхала: - «Знать бы ране,
Я б не пеклася так о них.
А тут, я стала почтальоном -
Сама ходила к жениху,
Что жил на Знаменке, вверху,
Носила письма неуклонно.»
- «А он красивый был мужчина?»
Опять спросила я ее.
- «И ты, как Надя, за свое...
Представь, похож на херувима.»
- «А звали как его?» - «Василий
Евграфович... Да что с тобой?»
- «Ну, значит Васька не [любой????]…»
- «Василь Евграфович был милый!»
«Но все же папенька, Богданов,
Нашел другого жениха,
Похожего на петуха
В армейском чине капитана.
Тут Надя подняла шумок,
Кричала! Нон! Не выйду замуж,
Кого люблю, решу сама уж...
И в этот миг — звонит звонок,
И входит он, красивый мичман,
И тут же — маменьке поклон,
И сразу всех пленяет он, -
Жених прекрасный и приличный.
А Наденька, та вдруг упала,
С улыбкой легкой на устах.
И всё решилось впопыхах,
Что свадьба будет, но вначале
Полгода подождать придется, -
Отслужит он на корабле
И очутившись на земле,
К любимой девушке вернется.
На завтра он уехал к морю,
А Наденька не подвела,
Писала письма и ждала,
Надеялась увидеть вскоре.
Но жизнь идет, не как в романе,
Он не писал. А мы узнали,
Что бури пароход сломали
И мичман умер в океане.
Что было дальше — Божья воля,
Жалело Надю пол Москвы,
А доктор говорил - «Увы,
Сошла с ума — такая доля!»
VII
Когда Василий возвратился
Была уж осень на ходу,
Мы не купалися в пруду
И весь пейзаж преобразился.
Роняли ветлы желтый лист,
А сад стоял почти раздетым
И цвел горошек грустным цветом,
И был печален птичий свист.
А мы посели за уроки
И приучали нас писать
Теперь в особую тетрадь
Каллиграфические строки.
Когда же выпал первый снег,
Пришла московская депеша,
И людям надо ехать спешно,
А я была не человек.
Я как всегда, жила с ангиной,
Считали все, что я больна,
И вот, оставлена одна
По этой пакостной причине.
Конечно, чудная Дуняша
Меня отправила в кровать
И запретив совсем читать,
С утра кормила манной кашей.
И я, при «докторе» таком,
Решила бросить вилки, ложки,
Есть как собаки или кошки
Одним ангинным языком.
И вот я суп с трудом хлебала,
Как пес из миски во дворе,
Потом биточки и пюре.
Поставив их на одеяло.
С битками проявила прыть,
Потом рукой пюре ловила.
Изящно жижу проглотила
И захотела страшно пить.
И взглядом поискав графин,
Глаза упали на икону,
Где нарисован в капюшоне
Святой премудрый Серафим.
И тут, о горе, о, тоска,
Я вдруг увидела, что старец
Смотря в глаза мне, поднял палец
И пригрозил издалека.
И я, когда вошла Дуняша,
Чуть не созналась ей во всем,
В грехе содеянном своем....
О, как жалка природа наша!
VIII
Но что же было там, в Москве?
Об этом долго толковали
И постоянно пребывали
В негодованьи и тоске.
В старинном флигеле квартиру
Снимали Наденьке давно,
Ей было это все равно -
Она полна презренья к миру.
За ней ходили две особы,
Кухарка и старик лакей,
Она звала его «плебей»,
Но и гордилась им особо.
Они втроем играли в карты,
Но были дни, когда она
Бывала целый день темна
И поминала Бонапарта.
«Вот это император был,
Ходил по дому в треуголке
И пусть бы в дом забрались волки,
Он их бы саблею убил.
А как он обожал пожары!
Когда горела вся Москва,
Он любовался ей сперва,
Потом и сам поддал ей жару.»
«Наполеон! Наполеон!»
Своим она кричала людям,
«Мы скоро с ним на троне будем,
Не верьте, нет, не умер он!»
И принималась украшать
Себя взволнованная Надя
И делать новые наряды
И всех расходом устрашать.
Но видя склонности к пожарам
Лакей Иван сам спички жег,
Их от хозяйки скрыть он мог
И прятал в разных кулуарах.
И вот зимой, когда хозяйка
Легла спокойно на кровать
О Бонапарте помечтать,
Уселись в кухне, словно стайка
Гусей — кухарка и лакей,
Сосед и старая соседка,
Что было, в сущности, не редко,
Сыграть в картишки, без затей.
И с болтовней, наперебой,
Они так весело играли,
Что совершенно не слыхали,
Что там творилось за трубой.
IX
А там, куда вбежали слуги
Услышав шорохи извне,
Стояла Наденька в огне,
Но не была она в испуге,
А танцевала и горела,
Уже пылал клочок волос,
Огонь подрагивал и рос,
А Надя прыгала и пела.
Тогда, опомнившись, кухарка
Одну из простыней схватив,
Как папа наш на объектив,
Набросила, но было жарко,
Огонь работал сколько мог,
но все швыряли, что попало,
Мантилью, тряпки, одеяло
И Наденьку свалили с ног.
Она в беспамятстве лежала,
Лакей за доктором пошел
И наконец его привел.
А Надя бедная дрожала
И слезы горькие лила.
Вся обожженная насквозь,
Ей много дней страдать пришлось -
Депеша сразу не дошла.
И наконец, в тот день когда
В Москву Богдановы явились,
То Наденька так изменилась,
Что не осталось ни следа
От той, что нашей квартиранткой
У нас в имении была,
Что Маню Манечкой звала
И нарекала интриганкой.
Она совсем иною стала,
Верней, она в себя пришла,
Такой, как в юности была
И не от боли так рыдала.
Она опять любовь вкусила,
А тетю Маню больше всех
Молила отпустить ей грех,
И всё прощения просила.
На третьи сутки умерла.
Все слезы лили возле гроба.
И уж, конечно, те особы,
Кому хозяйкою была.
А тетя Маня их простила:
«Не дай другому в зад ногой -
Сам Вседержитель был слугой.»
И жить по воле отпустила.
X
Зима в тот год была лютая,
Как наш Гаврила говорил...
Мороз такого натворил,
Что снег лежал почти до мая.
И вот, чуть позже Рождества,
Вдруг папа в отпуск к нам приехал -
О. сколько было слез и смеха.
Он показался нам сперва
Помолодевшим в том Дербенте,
Где всю войну он проживал,
Откуда нам посылки слал,
И в отпуск выехал моментом.
И сыну Нике он вручил
Прекрасный дорогой подарок,
Альбом для иностранных марок,
А мне колечко подарил.
Ему ту комнату топили,
Где летом Наденька жила.
И я сама там убрала,
В углах почистила от пыли.
А утром оказалось, что он
Всю ночь, бедняжечка, страдал,
Совсем не спал, не отдыхал,
И был вообще разочарован.
Все дело в том, что той болезни,
Что он болел, тогда врачи
Не знали, как ее лечить,
Что папе вредно, что полезно.
Его в Берлине год лечили,
Но то лекарство, как назло
Нисколечко не помогло.
Болезнь ту звали — аллергия.
Он знал по опыту, что может
Жить у Богдановых, в Москве,
И в Петербурге на Неве,
Но, скажем, в Туле — кости сложит.
Что если он поест моркови
Иль к брату Дмитрию пойдет,
И с ним хоть сутки поведет -
Простится с жизнью и любовью.
Они не виделись годами
Ни с Митей, ни с его женой,
Избрав для связи путь иной -
То были письма, что пудами
Копили оба по старинке.
Все дядя диктовал жене,
Затем, от дяди в стороне
Их размножали на машинке.
XI
На утро я, по детской прыти,
У папы в комнате была.
А он сказал: «Ну и дела,
Скажи, когда у дяди Мити
Еще зимой бывали вы,
С детьми играли в кошки-мышки,
Какие вам дарили книжки?
Что привезли вы из Москвы?»
«Сейчас узнаю... Но я помню,
Что мы не брали ничего.»
Но Ника? Он ото всего
Отрекся. Всё ж до ночи темной
Мы перерыли гардероб,
Перекидали все игрушки.
У тети Мани чашки, кружки,
А папу бил уже озноб.
Закутанный тяжелым пледом,
Он перед форточкой сидел,
И, тяжело дыша, глядел
В пространство, даже не обедав.
При появлении моем,
Когда к нему я приходила,
Смотрел печально. Я твердила:
- «Не беспокойся. Мы найдем.»
Уж ночь прошла, а он все так же
Хрипел и мучился; не спал,
Не ел ни крошки, но икал,
На нас смотрел, как магараджа
На глупых слуг. А мы опять
Копали вещи и в порядке
Перебирали все манатки...
Тут папа стал Гаврилу звать,
Просить, чтоб сани подавали...
Что делать? Папа это гость,
Он здесь застрял, как в горле кость,
Ему тут душно, как в подвале...
Когда подъехал наш Гаврила
Уже к парадному крыльцу,
Пошла я сообщить отцу,
Что тройка к дому подкатила.
А папа мне - «Не знал, что вы
Такие... До меня нет дела!»
Я ахнула и обомлела
Дотронувшись до головы.
Там бант, красиво и богато
Сидел, я знаю, виновато.
Та лента, что дала мне Ната,
Дочь Мити, папиного брата.
XII
Переживая катастрофу
Я задним ходом вышла в сад,
И там сорвала свой наряд
И закопала, как картофель
В сугроб. И вдруг смотрю — Дуняша!
Накинув на себя платок,
Глядит на яркий огонек,
Что виден в окнах дяди Саши.
Но в этот миг я не смутилась,
Нырнула в дом наш через двор,
Попала вскоре в коридор
И перед дверью очутилась
Где дяди сашин кабинет.
Там говорили о дурмане
И веселилась тетя Маня.
А я проникла в туалет
И слушала, прижавшись к печке,
Как папа говорил: - «Я сам
Себе не верю. Верю вас,
Во мне произошла осечка.
Я вдруг поправился. Зачем,
Куда поеду на ночь глядя?
Меня простите, Бога ради,
Ведь я здоров, здоров совсем.»
Тут я сбежала потихоньку,
К себе забралась на постель.
Меня пугала канитель,
Что заварила я, девчонка.
Боялась также, что Дуняша
Меня заметила тогда
И выдаст тут же, как всегда,
И вот тогда-то будет каша.
За ленту, что уже два дня,
Таскала лихо на себе я,
Вообразила, цепенея,
Что растерзать должны меня.
Но все у папы миновалось,
Когда в столовой очутясь,
И незаметно оглядясь
Я за тарелкой оказалась.
О, как наш ужин был хорошо!
Мы ели все, что так любили,
И даже нам вина налили,
И дядя пил за молодежь.
Прошли года. Я постарела.
Ушли от нас все старики,
Но были годы не легки -
Оглядывались то и дело.
Я вспоминала это все,
Как сон, приснившийся когда-то,
Когда волшебною лопатой
К себе гребла я то и сё.
И все ж, не будем поддаваться
Тому, что мучило вчера -
Сегодня кончилась игра.
Ну, что ж, счастливо оставаться,
А нам в отъезд.
Пора! Пора!
Послесловие.
Тетя Маня, дядя Саша и папа умерли в разное время и в разных странах. Няня Наталья, конечно тоже, раньше всех. А Дуняша, которой тетя Маня выхлопотала вагон, повезла в нем все наши вещи — мебель, картины, книги, зимние вещи, фарфор и т. п., которые была должна перебросить нам, туда, где мы жили. Переадресовав по дороге вагон в Рязань, она вместе с сыном Степаном, все продала и купила 2 каменных дома. Жила она у Богдановых с девчонок, была обожаема тетей Маней, выдана ею замуж, но после смерти мужа вернулась с сыном обратно. А всего прожила она в богдановском доме 25 лет. После этого ее имя в доме не упоминалось, а Богдановы превратились в бедняков с одним чемоданом.
27 января